Пётр Дуткевич беседует с Шимшоном Бихлером. Полный текст его
интервью с Бихлером и Нитцаном будет опубликован в книге «Двадцать
способов наладить дела в мире: беседы с ведущими мировыми мыслителями»
(Twenty Ways to Fix the World: Conversations with the World's Foremost
Thinkers) под редакцией Петра Дуткевича и Ричарда Саквы. Издание выйдет в
свет в издательстве New York University Press, New York & London,
2014; © World Public Forum (Мировой общественный форум «Диалог
цивилизаций»).
ПД: – Давайте начнем с общей картины сложившейся
экономической системы: пожалуйста, оглянитесь вокруг и скажите, в чем вы
видите главные особенности нынешней рыночной системы?
ШБ: – Ваш вопрос обременен гораздо большим
подтекстом, чем может показаться на первый взгляд. Как я себе
представляю, описывать нынешнюю «экономическую и рыночную систему» –
значит соглашаться с этими терминами как с объективной реальностью или
по меньшей мере считать их полезными понятиями. Но являются ли они
таковыми?
ПД: – Так какими терминами вы бы воспользовались? Имеется ли альтернативный подход?
ШБ: – Да, имеется, но прежде чем к нему перейти, нам
нужно определиться с проблемой в рамках традиционного подхода. На мой
взгляд, такие фразы, как «экономическая система» и «рыночная система» –
это ошибочная терминология, поскольку они неактуальны и вводят в
заблуждение. Сегодня они чаще используются в качестве идеологических
лозунгов, а не научных понятий. От частого их употребления смысл
капиталистических реалий отнюдь не проясняется. Конечно, так было не
всегда. В XVII и XVIII веках, когда капитализм еще находился в стадии
становления, не было необходимости в апологетах рынка. Напротив, рынок
воспринимался как носитель прогресса – могущественный институт,
предвестник свободы, равенства и терпимости. «Посетите Лондонскую биржу,
– писал Вольтер. – Это куда более достойное место, чем Королевский суд.
Там вы найдете представителей всех народов, которые спокойно работают
над повышением благополучия. Там магометанин, еврей и христианин
обращаются друг с другом так, как будто все они одной веры. Они никого
не называют “неверными”, если только кто-то не становится банкротом».
Рынок оказал глубокое влияние на историю Европы – отчасти потому, что
возник в, казалось бы, малоподходящей обстановке. После вторжения
кочевых племен и падения цивилизации императорского Рима в Европе
первого тысячелетия новой эры установился крайне раздробленный
социальный режим, который мы называем феодализмом. Он опирался на
автономные сельские поместья, где землю возделывали крепостные
крестьяне, а управлялись они жестокой аристократией. Технологические
ноу-хау в тот период были крайне скудными, урожайность культур низкой, а
торговли почти не существовало. Властные отношения узаконивались
священным понятием «общественной пирамиды», которую составляли приоры,
воины и землепашцы (или, если говорить более политизированным языком,
духовенство, знать и крестьяне). Купцам и финансистам в этой структуре
не было места.
Но это продолжалось недолго. Феодальный порядок начал распадаться в
первой половине второго тысячелетия нашей эры, и его упадок
сопровождался – и в какой-то мере даже ускорялся – оживлением торговли и
ростом таких купеческих городов, как Брюгге, Венеция и Флоренция. Эти
изменения ознаменовали формирование совершенно иного общественного строя
– городской цивилизации, породившей новый правящий класс, известный как
буржуазия. Это был беспрецедентный в истории научно обоснованный
ненасильственный переворот и возникновение новой культуры, которую мы
называем либеральной.
В силу европейской специфики этого процесса рынок стал символом отрицания старого режима.
В противоположность феодализму, с которым ассоциируется
коллективистский, застойный, суровый, невежественный и жестокий режим,
рынок сулил индивидуализм, рост, благосостояние, просвещение и мир. И
именно этот наиболее ранний конфликт между властью феодалов и
капиталистическими устремлениями впоследствии выкристаллизовался в то,
что большинство людей в наши дни воспринимают как очевидный дуализм:
контраст между государством («политикой») и рынком («экономикой»).
В соответствии с традиционным представлением о бифуркации экономика и
политика – это ортогональные сферы, одна горизонтальная, а другая
вертикальная. Экономика – сфера независимости, производительности и
благополучия. Своего рода расчетная палата, где в обмен на чеки
удовлетворяются желания и мечты, арена добровольной деятельности, на
которой автономные агенты занимаются производством и обменом для
улучшения своей жизни и увеличения своей полезности. В отличие от нее
политическая система государственных организаций и институтов –
средоточие власти и контроля. Структура свободной экономики плоская,
политика иерархична по своей природе. Это командная система, которая
держится на принуждении, угнетении и послушании.
Экономика, а точнее – рыночная экономика, считается производительной
силой, создающей богатство. Она эффективна (сводит к минимуму издержки) и
гармонична (стремится к равновесию). Кроме того, в ней присутствует
свободная конкуренция, и она стремится к умножению благосостояния (за
счет максимального увеличения полезности). Если предоставить ее самой
себе (то есть не ограничивать свободу предпринимательства – laissez faire),
то она способствует благосостоянию общества (поддерживая экономический
рост и увеличивая богатство стран). В отличие от нее, политическая
система склонна к расточительности и паразитизму. Ее цель – не
производство, а перераспределение благ. Ее представители – политики,
государственные чиновники и бюрократы – стремятся к власти, положению и
престижу. Они жаждут вмешиваться в экономику и монополизировать ее. Они
облагают налогами, заимствуют и тратят средства, а в процессе этой
деятельности душат экономику и делают ее малоэффективной. Иногда внешние
факторы и крах рынка требуют государственного вмешательства. Но это
вмешательство, как утверждается, должно быть минимальным, временным и
подчиняться основополагающей логике экономического развития.
ПД: – Стало быть, рынок выполняет функцию новой идеологии для буржуазии?
ШБ: – Совершенно верно. Представление о рынке,
которое я только что обрисовал, во многом обязано Адаму Смиту –
шотландцу, жившему в XVIII веке, который превратил идею рынка в ключевой
политический институт капитализма. Изобретение Смита помогло буржуазии
ослабить, а затем окончательно ниспровергнуть феодально-монархическое
государство, и это лишь для начала. Довольно скоро рынок стал главной
идеологией победившего капиталистического режима. Он помог капитализму
распространиться по всему миру и победить такие конкурирующие режимы,
как фашизм и коммунизм. В Советском Союзе, где производство подчинялось
хаотичному планированию и сопровождалось тираническим правлением,
организованным насилием, открытой коррупцией и ограниченным
потреблением, рынок символизировал другую жизнь. Альтернативный мир
свободы и изобилия. И это восприятие все еще вбивается в наши головы
идеологами капитализма. В конечном итоге нам внушается, что есть только
один выбор: рынок или Госплан. Если мы не выбираем эгоцентризм и
свободу, то будем обречены на планирование и тиранию, и на этом весь
выбор заканчивается. Другой альтернативы не существует – по крайней
мере, так утверждает догма.
Идейный фундамент, подводимый под эти аргументы, был заложен в конце
XIX века после формального разделения классической политэкономии на две
самостоятельные научные дисциплины: политологию и экономику. Термин
«экономика» (economics) был изобретен Альфредом Маршаллом
(Кембриджский университет) для обозначения новой маргинальной, или
неоклассической, доктрины политэкономии. Маршалл также написал первый
учебник по экономике (изданный в 1890 г.), где определил жесткие рамки
этой дисциплины, разработал ее дедуктивный формат и привел
многочисленные примеры, которые до сих пор используются.
Экономика так и не стала настоящей наукой по одной простой причине:
это было невозможно. Наука по своей природе скептична. В отличие от
бесконечно уверенной в собственной правоте религии, опирающейся на
догмы, наука основана на сомнении. Она не апеллирует к обрядам и
неизменяемым догматам, но ищет новые объяснения постоянно расширяющихся
горизонтов. Она пытается не оправдывать, а понять. В этом смысле
экономика не похожа на науку. Наоборот, она стремится не объяснить
капитализм, а оправдать его. Когда экономика впервые появилась на свет в
конце XIX века, капитализм уже одержал победу. Но он в те годы
отличался крайней нестабильностью, подвергался атакам со стороны
многочисленных критиков и революционеров, поэтому нуждался в защите, и
идейная защита была доверена новым жрецам либерализма – экономистам.
Чтобы справиться с этой ролью, экономисты разработали сложную систему
математических формул, доказывающую, что свободная полностью
нерегулируемая экономика, если таковая возможна, по определению даст нам
лучшее во всех возможных мирах.
Традиционный контраргумент, приводимый многими неортодоксальными
критиками, состоит в том, что неоклассические модели могут быть
элегантными, но имеют мало общего с реальным миром, в котором мы живем. И
в этом наблюдении, конечно, большая доля истины. Но экономическая наука
страдает от более глубокой и серьезной проблемы, которая едва ли кем-то
упоминается: она опирается на фиктивные количественные показатели.
Любая наука зиждется на одном и более фундаментальных количественных
показателях, в которых выражены все другие величины. Например, в физике
есть пять фундаментальных количественных показателей: расстояние, время,
масса, электрический заряд и тепло – и все другие параметры
устанавливаются на их основе. Скажем, скорость – это расстояние,
поделенное на время, а ускорение – это временная характеристика
скорости. Сила тяготения – это масса, умноженная на ускорение. Если
экономика – наука, то она должна оперировать с помощью фундаментальных
показателей, и экономисты утверждают, что таковые имеются.
Фундаментальный количественный параметр неоклассической вселенной – это
единица гедонистических удовольствий, или ютил (единица полезности, util. – Ред.).
ПД: – Не могли бы Вы подробнее остановиться на этом? Каким
образом ютил может быть основой или фундаментом неоклассической
экономики?
ШБ: – Ответ начинается с традиционной бифуркации
самой экономики на две количественные сферы: реальную и номинальную. По
мнению экономистов, ключ в реальном секторе, так как это материальный
мотор общества, сфера материальных активов и технологических ноу-хау,
место производства и потребления, источник благосостояния. Номинальная
сторона экономики вторична. Это сфера денежного обращения, цен,
стоимости и финансов, инфляции и дефляции, спекулятивных пузырей на
фондовом рынке и его последующих обвалов. Будучи чрезвычайно динамичной,
номинальная сфера не живет собственной жизнью. Ее денежные величины
просто отражают то, что происходит в реальном секторе – иногда точно, а
иногда приблизительно. Речь идет о количественном отражении: ценовые
количественные параметры номинальных сфер отражают существенные
качественные параметры реальной сферы.
В конечном итоге все количественные параметры в экономике сводятся к
ютилам. Ютил – предельная единица экономической науки. Это
фундаментальный количественный показатель – тот строительный кирпичик,
из которого состоит все здание экономики. Сами ютилы, подобно греческим
атомам, всюду идентичны, но их сочетание приводит к появлению бесконечно
сложных форм, которые экономисты называют товарами и услугами. Каждая
составная часть реальной экономики – от общего объема производства,
потребления и инвестиций до размера ВВП, военных расходов и
технологического масштаба – сумма производимых ютилов. А ценовые
величины номинальной экономики – например, цена промышленного робота в
долларах (скажем, 5 млн долл.) и цена модного айфона (500 долл.) –
просто отражение соответствующих реальных количественных параметров,
деноминированных в ютилах (их соотношение – 10 000 : 1, если это
отражение верно).
И здесь мы подходим к самой сути вопроса: этот ютил, считающийся
базовой или предельной количественной единицей, из которой извлекаются
другие экономические показатели, не поддается измерению и даже познанию!
До сих пор никому не удавалось количественно определить ютил, и я очень
сильно сомневаюсь, что это кому-либо когда-то удастся. Это чистая
фикция. И поскольку все реальные экономические количественные показатели
деноминированы в этой фиктивной единице, отсюда вытекает, что и эти
показатели тоже фиктивны. Измерять «реальный ВВП» или «уровень жизни»
без ютилов – все равно что измерять скорость без времени или силу
тяготения без массы. Следует отметить, что аналогичную критику можно
использовать против классического марксизма. Элементарной единицей
марксистской вселенной является общественно необходимый абстрактный
труд. Это фундаментальный количественный показатель; из него состоят все
реальные величины, которые должны отражаться в номинальных сферах.
Вместе с тем ни один марксист никогда их не измерял.
Это похоже на притворство героев сказки «Новое платье короля» Ганса
Христиана Андерсена. Студенты, ослепленные бесконечной зубрежкой
«практических» заданий, даже не подозревают, что их «расчеты» лишены
всякого практического смысла. Из памяти большинства профессоров,
вышедших из мясорубки неоклассического образования, благополучно стерты
все следы этой проблемы (если предположить, что они вообще ее
осознавали). А у статистиков, задача которых состоит в измерении
экономики, нет другого выбора, как только придумывать цифры на основе
произвольных предположений, которые никто не может ни подтвердить, ни
опровергнуть. Все здание подвешено в воздухе, и все хранят молчание,
чтобы оно не рухнуло.
Пётр Дуткевич беседует с Шимшоном Бихлером. Полный текст его
интервью с Бихлером и Нитцаном будет опубликован в книге «Двадцать
способов наладить дела в мире: беседы с ведущими мировыми мыслителями»
(Twenty Ways to Fix the World: Conversations with the World's Foremost
Thinkers) под редакцией Петра Дуткевича и Ричарда Саквы. Издание выйдет в
свет в издательстве New York University Press, New York & London,
2014; © World Public Forum (Мировой общественный форум «Диалог
цивилизаций»).
ПД: – Давайте начнем с общей картины сложившейся
экономической системы: пожалуйста, оглянитесь вокруг и скажите, в чем вы
видите главные особенности нынешней рыночной системы?
ШБ: – Ваш вопрос обременен гораздо большим
подтекстом, чем может показаться на первый взгляд. Как я себе
представляю, описывать нынешнюю «экономическую и рыночную систему» –
значит соглашаться с этими терминами как с объективной реальностью или
по меньшей мере считать их полезными понятиями. Но являются ли они
таковыми?
ПД: – Так какими терминами вы бы воспользовались? Имеется ли альтернативный подход?
ШБ: – Да, имеется, но прежде чем к нему перейти, нам
нужно определиться с проблемой в рамках традиционного подхода. На мой
взгляд, такие фразы, как «экономическая система» и «рыночная система» –
это ошибочная терминология, поскольку они неактуальны и вводят в
заблуждение. Сегодня они чаще используются в качестве идеологических
лозунгов, а не научных понятий. От частого их употребления смысл
капиталистических реалий отнюдь не проясняется. Конечно, так было не
всегда. В XVII и XVIII веках, когда капитализм еще находился в стадии
становления, не было необходимости в апологетах рынка. Напротив, рынок
воспринимался как носитель прогресса – могущественный институт,
предвестник свободы, равенства и терпимости. «Посетите Лондонскую биржу,
– писал Вольтер. – Это куда более достойное место, чем Королевский суд.
Там вы найдете представителей всех народов, которые спокойно работают
над повышением благополучия. Там магометанин, еврей и христианин
обращаются друг с другом так, как будто все они одной веры. Они никого
не называют “неверными”, если только кто-то не становится банкротом».
Рынок оказал глубокое влияние на историю Европы – отчасти потому, что
возник в, казалось бы, малоподходящей обстановке. После вторжения
кочевых племен и падения цивилизации императорского Рима в Европе
первого тысячелетия новой эры установился крайне раздробленный
социальный режим, который мы называем феодализмом. Он опирался на
автономные сельские поместья, где землю возделывали крепостные
крестьяне, а управлялись они жестокой аристократией. Технологические
ноу-хау в тот период были крайне скудными, урожайность культур низкой, а
торговли почти не существовало. Властные отношения узаконивались
священным понятием «общественной пирамиды», которую составляли приоры,
воины и землепашцы (или, если говорить более политизированным языком,
духовенство, знать и крестьяне). Купцам и финансистам в этой структуре
не было места.
Но это продолжалось недолго. Феодальный порядок начал распадаться в
первой половине второго тысячелетия нашей эры, и его упадок
сопровождался – и в какой-то мере даже ускорялся – оживлением торговли и
ростом таких купеческих городов, как Брюгге, Венеция и Флоренция. Эти
изменения ознаменовали формирование совершенно иного общественного строя
– городской цивилизации, породившей новый правящий класс, известный как
буржуазия. Это был беспрецедентный в истории научно обоснованный
ненасильственный переворот и возникновение новой культуры, которую мы
называем либеральной.
В силу европейской специфики этого процесса рынок стал символом отрицания старого режима.
В противоположность феодализму, с которым ассоциируется
коллективистский, застойный, суровый, невежественный и жестокий режим,
рынок сулил индивидуализм, рост, благосостояние, просвещение и мир. И
именно этот наиболее ранний конфликт между властью феодалов и
капиталистическими устремлениями впоследствии выкристаллизовался в то,
что большинство людей в наши дни воспринимают как очевидный дуализм:
контраст между государством («политикой») и рынком («экономикой»).
В соответствии с традиционным представлением о бифуркации экономика и
политика – это ортогональные сферы, одна горизонтальная, а другая
вертикальная. Экономика – сфера независимости, производительности и
благополучия. Своего рода расчетная палата, где в обмен на чеки
удовлетворяются желания и мечты, арена добровольной деятельности, на
которой автономные агенты занимаются производством и обменом для
улучшения своей жизни и увеличения своей полезности. В отличие от нее
политическая система государственных организаций и институтов –
средоточие власти и контроля. Структура свободной экономики плоская,
политика иерархична по своей природе. Это командная система, которая
держится на принуждении, угнетении и послушании.
Экономика, а точнее – рыночная экономика, считается производительной
силой, создающей богатство. Она эффективна (сводит к минимуму издержки) и
гармонична (стремится к равновесию). Кроме того, в ней присутствует
свободная конкуренция, и она стремится к умножению благосостояния (за
счет максимального увеличения полезности). Если предоставить ее самой
себе (то есть не ограничивать свободу предпринимательства – laissez faire),
то она способствует благосостоянию общества (поддерживая экономический
рост и увеличивая богатство стран). В отличие от нее, политическая
система склонна к расточительности и паразитизму. Ее цель – не
производство, а перераспределение благ. Ее представители – политики,
государственные чиновники и бюрократы – стремятся к власти, положению и
престижу. Они жаждут вмешиваться в экономику и монополизировать ее. Они
облагают налогами, заимствуют и тратят средства, а в процессе этой
деятельности душат экономику и делают ее малоэффективной. Иногда внешние
факторы и крах рынка требуют государственного вмешательства. Но это
вмешательство, как утверждается, должно быть минимальным, временным и
подчиняться основополагающей логике экономического развития.
ПД: – Стало быть, рынок выполняет функцию новой идеологии для буржуазии?
ШБ: – Совершенно верно. Представление о рынке,
которое я только что обрисовал, во многом обязано Адаму Смиту –
шотландцу, жившему в XVIII веке, который превратил идею рынка в ключевой
политический институт капитализма. Изобретение Смита помогло буржуазии
ослабить, а затем окончательно ниспровергнуть феодально-монархическое
государство, и это лишь для начала. Довольно скоро рынок стал главной
идеологией победившего капиталистического режима. Он помог капитализму
распространиться по всему миру и победить такие конкурирующие режимы,
как фашизм и коммунизм. В Советском Союзе, где производство подчинялось
хаотичному планированию и сопровождалось тираническим правлением,
организованным насилием, открытой коррупцией и ограниченным
потреблением, рынок символизировал другую жизнь. Альтернативный мир
свободы и изобилия. И это восприятие все еще вбивается в наши головы
идеологами капитализма. В конечном итоге нам внушается, что есть только
один выбор: рынок или Госплан. Если мы не выбираем эгоцентризм и
свободу, то будем обречены на планирование и тиранию, и на этом весь
выбор заканчивается. Другой альтернативы не существует – по крайней
мере, так утверждает догма.
Идейный фундамент, подводимый под эти аргументы, был заложен в конце
XIX века после формального разделения классической политэкономии на две
самостоятельные научные дисциплины: политологию и экономику. Термин
«экономика» (economics) был изобретен Альфредом Маршаллом
(Кембриджский университет) для обозначения новой маргинальной, или
неоклассической, доктрины политэкономии. Маршалл также написал первый
учебник по экономике (изданный в 1890 г.), где определил жесткие рамки
этой дисциплины, разработал ее дедуктивный формат и привел
многочисленные примеры, которые до сих пор используются.
Экономика так и не стала настоящей наукой по одной простой причине:
это было невозможно. Наука по своей природе скептична. В отличие от
бесконечно уверенной в собственной правоте религии, опирающейся на
догмы, наука основана на сомнении. Она не апеллирует к обрядам и
неизменяемым догматам, но ищет новые объяснения постоянно расширяющихся
горизонтов. Она пытается не оправдывать, а понять. В этом смысле
экономика не похожа на науку. Наоборот, она стремится не объяснить
капитализм, а оправдать его. Когда экономика впервые появилась на свет в
конце XIX века, капитализм уже одержал победу. Но он в те годы
отличался крайней нестабильностью, подвергался атакам со стороны
многочисленных критиков и революционеров, поэтому нуждался в защите, и
идейная защита была доверена новым жрецам либерализма – экономистам.
Чтобы справиться с этой ролью, экономисты разработали сложную систему
математических формул, доказывающую, что свободная полностью
нерегулируемая экономика, если таковая возможна, по определению даст нам
лучшее во всех возможных мирах.
Традиционный контраргумент, приводимый многими неортодоксальными
критиками, состоит в том, что неоклассические модели могут быть
элегантными, но имеют мало общего с реальным миром, в котором мы живем. И
в этом наблюдении, конечно, большая доля истины. Но экономическая наука
страдает от более глубокой и серьезной проблемы, которая едва ли кем-то
упоминается: она опирается на фиктивные количественные показатели.
Любая наука зиждется на одном и более фундаментальных количественных
показателях, в которых выражены все другие величины. Например, в физике
есть пять фундаментальных количественных показателей: расстояние, время,
масса, электрический заряд и тепло – и все другие параметры
устанавливаются на их основе. Скажем, скорость – это расстояние,
поделенное на время, а ускорение – это временная характеристика
скорости. Сила тяготения – это масса, умноженная на ускорение. Если
экономика – наука, то она должна оперировать с помощью фундаментальных
показателей, и экономисты утверждают, что таковые имеются.
Фундаментальный количественный параметр неоклассической вселенной – это
единица гедонистических удовольствий, или ютил (единица полезности, util. – Ред.).
ПД: – Не могли бы Вы подробнее остановиться на этом? Каким
образом ютил может быть основой или фундаментом неоклассической
экономики?
ШБ: – Ответ начинается с традиционной бифуркации
самой экономики на две количественные сферы: реальную и номинальную. По
мнению экономистов, ключ в реальном секторе, так как это материальный
мотор общества, сфера материальных активов и технологических ноу-хау,
место производства и потребления, источник благосостояния. Номинальная
сторона экономики вторична. Это сфера денежного обращения, цен,
стоимости и финансов, инфляции и дефляции, спекулятивных пузырей на
фондовом рынке и его последующих обвалов. Будучи чрезвычайно динамичной,
номинальная сфера не живет собственной жизнью. Ее денежные величины
просто отражают то, что происходит в реальном секторе – иногда точно, а
иногда приблизительно. Речь идет о количественном отражении: ценовые
количественные параметры номинальных сфер отражают существенные
качественные параметры реальной сферы.
В конечном итоге все количественные параметры в экономике сводятся к
ютилам. Ютил – предельная единица экономической науки. Это
фундаментальный количественный показатель – тот строительный кирпичик,
из которого состоит все здание экономики. Сами ютилы, подобно греческим
атомам, всюду идентичны, но их сочетание приводит к появлению бесконечно
сложных форм, которые экономисты называют товарами и услугами. Каждая
составная часть реальной экономики – от общего объема производства,
потребления и инвестиций до размера ВВП, военных расходов и
технологического масштаба – сумма производимых ютилов. А ценовые
величины номинальной экономики – например, цена промышленного робота в
долларах (скажем, 5 млн долл.) и цена модного айфона (500 долл.) –
просто отражение соответствующих реальных количественных параметров,
деноминированных в ютилах (их соотношение – 10 000 : 1, если это
отражение верно).
И здесь мы подходим к самой сути вопроса: этот ютил, считающийся
базовой или предельной количественной единицей, из которой извлекаются
другие экономические показатели, не поддается измерению и даже познанию!
До сих пор никому не удавалось количественно определить ютил, и я очень
сильно сомневаюсь, что это кому-либо когда-то удастся. Это чистая
фикция. И поскольку все реальные экономические количественные показатели
деноминированы в этой фиктивной единице, отсюда вытекает, что и эти
показатели тоже фиктивны. Измерять «реальный ВВП» или «уровень жизни»
без ютилов – все равно что измерять скорость без времени или силу
тяготения без массы. Следует отметить, что аналогичную критику можно
использовать против классического марксизма. Элементарной единицей
марксистской вселенной является общественно необходимый абстрактный
труд. Это фундаментальный количественный показатель; из него состоят все
реальные величины, которые должны отражаться в номинальных сферах.
Вместе с тем ни один марксист никогда их не измерял.
Это похоже на притворство героев сказки «Новое платье короля» Ганса
Христиана Андерсена. Студенты, ослепленные бесконечной зубрежкой
«практических» заданий, даже не подозревают, что их «расчеты» лишены
всякого практического смысла. Из памяти большинства профессоров,
вышедших из мясорубки неоклассического образования, благополучно стерты
все следы этой проблемы (если предположить, что они вообще ее
осознавали). А у статистиков, задача которых состоит в измерении
экономики, нет другого выбора, как только придумывать цифры на основе
произвольных предположений, которые никто не может ни подтвердить, ни
опровергнуть. Все здание подвешено в воздухе, и все хранят молчание,
чтобы оно не рухнуло.
ПД: – Иными словами, вы утверждаете, что
одно из немногих якобы прочных оснований, на которых зиждется наша жизнь
– понятие о том, что экономические параметры поддаются измерению и что
они объективны, – это фикция?
ШБ: – Да, и не следует забывать, что это
господствующая сегодня в мире идеология. Каждый винтик в корпоративной и
военно-государственной мегамашине – от бизнес-менеджеров и специалистов
по государственному планированию до армейских офицеров и сотрудников
Центрального банка, а также финансовых аналитиков, бухгалтеров и
налоговых инспекторов – образно говоря, имеет отношение к условностям и
ритуалам этой доктрины. Все они слепо принимают на веру одни и те же
мантры капиталистической матрицы, которые никогда не ставятся под
сомнение: что экономика производит блага, а политика паразитирует, что
рынок все уравновешивает, а государство дестабилизирует. И, конечно, нам
нужно постоянно контролировать правительство, чтобы оно не позволяло
себе никаких излишеств, выводить экономику из-под опеки государства и
усиливать конкуренцию.
Так что если вернуться к вашему первому вопросу, я не могу
охарактеризовать современную действительность с точки зрения экономики и
рыночной экономики, потому что эти категории сбивают с толку. Они
впихивают нас в жесткий неоклассический шаблон, притупляют
проницательность и душат воображение, делая творческое мышление
невозможным. Если мы хотим преодолеть эти препятствия и мыслить открыто и
непредвзято, то первое, что нужно, – расстаться с подобными
категориями.
И пришла пора это сделать. Мы живем в условиях глубокого кризиса, а
кризисы такого рода иногда приводят к интеллектуальному ренессансу. Они
усиливают критическое мышление, порождают новые методы исследований и
помогают нам придумывать альтернативные формы деятельности. Великая
депрессия 1930-х гг. стала катализатором такого возрождения. Этот кризис
изменил наше представление об обществе и подходы к его критике. Он
породил либеральную макроэкономику и антициклическую государственную
политику, вдохнул новую жизнь в марксистское мышление и другие ветви
радикализма в разных областях – от политэкономии до философии и
литературы. Кризис поколебал многие господствующие догмы и способствовал
взаимному оплодотворению идейно противоположных подходов.
ПД: – Некоторые говорят, что кризис 2007–2009 гг. стал
спусковым механизмом для подобной переоценки, но действительно ли мы
видим какие-то реальные изменения в восприятии экономики?
ШБ: – Я так не думаю. Можно было бы ожидать
возрождения наподобие того, которое произошло после Великой депрессии,
но мы нигде не видим признаков такого возрождения. Небольшая горстка
экономистов основной волны, включая Роберта Рубина, Джозефа Стиглица и
Пола Кругмана, обрушилась с критикой на основы собственной науки. Но
помимо нравственного негодования и «еретических» прогнозов, их критика
не содержит ничего принципиально нового. Зато реальным разочарованием
стала теоретическая слабость левых. В 1930-е гг. радикальные движения и
организации вдохновились новыми теориями капитализма и выступили с
детальным обоснованием его замены. Сегодня не происходит ничего
подобного. Движениям антиглобалистов, зеленых и «Оккупируй Уолл-стрит»
недостает этой энергетики, поскольку им не на что опереться. Отсутствует
обновленный теоретический фундамент, необходимый для построения новой
идеологии, а без такого фундамента им трудно разработать действенную
критику капитализма, не говоря уже о том, чтобы предложить внятную
альтернативу.
Подобный изъян создает вакуум, который все чаще заполняют религиозные
и праворадикальные движения. Поскольку мировой кризис продолжается, и
правящий класс балансирует на грани паники, существует реальная
вероятность массового сдвига вправо, как это произошло в 1930-е годы.
Мне кажется, этот сдвиг будет трудно предотвратить, не говоря уже о том,
чтобы противодействовать ему или обратить вспять при отсутствии
совершенно новой теоретической альтернативы.
ПД: – Даже неолибералы соглашаются с необходимостью полностью
переосмыслить или усилить политэкономию, поскольку мы утратили жизненно
важную связь между политикой и рынком. Что же составляет сердцевину
современной политэкономии?
ШБ: – Сердцевиной по-прежнему является капитал, но
нужно пересмотреть свое отношение к нему. Капитал – это не средство
производства, генерирующее гедоническое удовольствие, как утверждают
либералы, и не количественный показатель абстрактного труда, как
доказывают марксисты. Скорее капитал есть власть и только власть.
Обратите внимание, что я сделал ударение на глаголе «есть». Мы с
Джонатаном Ницаном беремся утверждать, что капитал следует понимать не в связи с властью, но как саму
власть. Подобного рода метафорический образ капитала сильно расходится с
традиционными «вероучениями». Марксистские аналитики и экономисты
основной волны часто связывают или ассоциируют капитал с властью. Они
говорят, что капитал влияет на власть или что власть на него влияет, что
власть может помогать в наращивании капитала или что капитал может
усиливать власть. Но это все внешние связи между отдельными явлениями.
Они говорят о капитале и власти, а мы говорим о капитале как власти.
Кроме того, мы доказываем, что капитализм в более широком смысле
лучше рассматривать не как способ производства или потребления, но как режим власти.
Станки, производство и потребление, конечно, суть неотъемлемая часть
капитализма, и они, конечно, играют важную роль в накоплении. Но роль
этих средств в процессе накопления важна лишь постольку, поскольку
опирается на власть.
Для пояснения нашей аргументации позвольте мне начать с двух базовых
понятий – цены и капитализации. Капитализм – и это признают и марксисты,
и либералы – организован в виде товарной системы единиц исчисления,
деноминированной в ценах. Капиталистический режим особенно восприимчив к
тому, чтобы организовать все в системе единиц исчисления, потому что
основан на частной собственности, а все, что находится в частной
собственности, может быть оценено. Эта фундаментальная особенность
капитализма означает, что, поскольку частная собственность
распространяется как в физическом, так и в социальном пространстве, цена
становится универсальной единицей измерения, с помощью которой
выстраивается здание капиталистического строя.
Но реальная модель этого числового порядка создается через
капитализацию. Капитализация, если перефразировать физика Дэвида Бома, –
это «порождающий порядок» капитализма. Это гибкий, всесторонний
алгоритм, постоянно воссоздающий порядок капитализма или
капиталистический строй.
ПД: – Что именно представляет собой капитализация?
ШБ: – В самом широком смысле капитализация –
символическая финансовая субстанция. Это ритуал, в ходе которого
капиталисты дисконтируют предполагаемые будущие доходы с поправкой на
риск, приводя их к текущей стоимости. У капитализации очень долгая
история. Она была изобретена в протокапиталистических «бургах» (городах)
Европы XIV столетия, если не раньше. Она преодолела религиозное
сопротивление ростовщичеству в XVII веке, которое стало обычной
практикой среди банкиров. Математические формулы капитализации впервые
артикулированы лесничими Германии в середине XIX века. Идейные и
теоретические основы капитализации заложены в начале XX века. Понятие
капитализации начало появляться в учебниках примерно в 1950-е годы. Это
дало толчок процессу, который современные специалисты называют «расчетом
финансовых результатов». К началу XXI века капитализация стала самой
могущественной религией на земле, поскольку у нее больше последователей,
чем у всех религий мира вместе взятых.
В наши дни капиталисты и все остальные привыкли воспринимать капитал
исключительно в смысле капитализации. Главный вопрос не в том, чем
конкретно владеет капиталист, а в универсальной ценности этой
собственности, определяемой как капитализированный актив.
ПД: – А как действует механизм капитализации?
ШБ: – Возьмем, к примеру, капиталиста, думающего о
приобретении (или продаже) акции компании Exxon, которая приносит
ежегодный доход в размере 100 долларов. Если учетная ставка равна 10%
или 0,1, то актив может быть капитализирован при вложении 1000 долл.
(ожидаемый доход в 100 долл. при вложении 1000 долл. означает
предполагаемую доходность инвестиций в 10% или 0,1). Но сам по себе
ожидаемый доход – категория отчасти объективная, а отчасти субъективная.
Объективная часть – фактический доход, который будет известен в будущем
– допустим, 50 долларов. Но капиталист в нашем примере ожидает 100
долл., а это значит, что он или она излишне оптимистичны. Мы называем
этот чрезмерный оптимизм «экстравагантными запросами», у которых есть
числовое выражение – в нашем примере это коэффициент 2. Если капиталист
был излишне пессимистичен, предполагаемый заработок будет оценен только в
25 долларов. Ставка дисконта также состоит из двух компонентов: обычной
доходности – скажем, доходности сравнительно безопасных облигаций
швейцарского правительства – и оценки риска. В нашем случае нормальная
доходность может составить 5%, но если акции компании Exxon
считаются в два раза рискованнее облигаций швейцарского правительства,
ставка дисконта будет в два раза выше, на уровне 10% (=2х5%).
Неоклассики и марксисты признают существование капитализации – но,
поскольку они считают капитал реальной экономической субстанцией, им
непонятно, что делать с его символической ипостасью. Неоклассики выходят
из этого тупика, заявляя, что в принципе капитализация – это просто
зеркальное отражение реального капитала, хотя на практике этот образ
искажается из-за несовершенных рыночных механизмов. Марксисты подходят к
этой проблеме с противоположного конца. Они начинают с утверждения, что
капитализация – это полная фикция, и следовательно, она не связана с
фактическим или реальным капиталом. Но затем, чтобы подкрепить свою
трудовую теорию стоимости, они также утверждают, что иногда этот пузырь
может либо раздуваться, либо лопаться для достижения равенства или
равновесия с реальным капиталом.
Мне кажется, что подобные попытки втиснуть капитализацию в нишу
реального капитала совершенно бесплодны. Во-первых, как я уже отмечал, у
реального капитала нет объективного количественного измерения. И
во-вторых, само отделение экономики от политики, необходимое для того,
чтобы подобная объективность была в принципе возможной, утратило
актуальность. И в самом деле, капитализация едва ли ограничивается так
называемой экономической сферой.
Любой денежный поток предполагаемого дохода – это кандидат на
капитализацию. А поскольку денежные потоки и доход генерируются
общественными учреждениями, процессами, организациями и институтами, то в
итоге получается, что капитализация учитывает не только так называемую
сферу экономики, но и, по сути дела, все аспекты общественной жизни.
Человеческая жизнь со всеми социальными привычками и генетическим кодом
рутинно капитализируется. Любые заведения и учреждения –
образовательные, развлекательные, религиозные и правовые – привычно
капитализируются. Добровольные социальные сети, насилие в городе,
гражданская война и международные конфликты постоянно капитализируются.
Капитализируется даже экологическое будущее человечества. Ничто не
ускользает от внимания оценщиков, если оно генерирует ожидаемый будущий
доход. Если что-то можно капитализировать, оно капитализируется.
Всеобъемлющий характер капитализации требует всеобъемлющей теории, и
объединяющим фундаментом для нее является власть. Примат власти встроен
непосредственно в определение частной собственности. Обратите внимание,
что английское слово «частный» (private) происходит от латинского privatus,
что означает «ограниченный». В этом смысле частная собственность
целиком и полностью выступает как институт исключения, а для
организованного исключения необходима организованная власть.
Конечно, нет необходимости в реальном осуществлении исключения. Здесь
имеет значение само право исключать и способность требовать карательных
мер в отношении тех, кто мешает реализовывать это право. Это право и
способность – фундамент накопления. Таким образом, капитал есть не что
иное, как организованная власть. У этой власти есть две стороны:
качественная и количественная. Качественная сторона состоит в
институтах, процессах и конфликтах, посредством которых капиталисты
постоянно создают общественный порядок, формируя и ограничивая
его траекторию, чтобы добиваться своих целей в перераспределении благ.
Количественная сторона – процесс, который интегрирует и низводит эти
многочисленные качественные процессы до универсальной составляющей –
величины капитализации.
ПД: – Давайте поговорим об экономическом спаде 2008–2009
годов. Мы привыкли слышать о том, что после экономического бума, который
до этого длился 20 лет, спад неизбежен. С учетом циклического характера
рыночной экономики нам вроде бы не о чем волноваться теоретически.
Однако все встревожены – от банкиров до простых потребителей. Так есть
что-то особенное в этом спаде? Чем он отличается от других?
ШБ: – В свете того, что до сих пор было сказано, мне
кажется, что в настоящее время мы переживаем не экономический спад и
даже не экономический кризис, а системный кризис – кризис,
угрожающий самому существованию капиталистического режима власти. Он
длится уже более десятилетия, начался не в 2008 г., как утверждает
большинство наблюдателей, а в 2000 г., и нет никаких признаков его
ослабления.
ПД: – Не могли бы Вы поподробнее объяснить, что означает «системный кризис»?
ШБ: – Давайте рассмотрим точку зрения капиталистов.
Так, они считают, что главный барометр успеха и неудачи – это не рост
производства или уровня занятости, а движение на фондовом рынке.
Фондовый рынок капитализирует их ожидаемый доход и тем самым низводит их
коллективное представление о будущем капитализма до простого числа.
Если изучить историю фондового рынка США, измеряемого рейтинговым агентством Standard & Poor по
биржевому индексу 500 компаний, котируемых на фондовом рынке, то мы
увидим, что в прошедшем столетии капиталисты пережили четыре волны
«медвежьего рынка». Каждый из этих «медвежьих» периодов отличался
обвалом цен в диапазоне от 50% до 70% в «постоянных долларах». Однако
заметьте, что эти спады, хоть и похожи друг на друга по количественным
показателям, совершенно разные по качеству. Каждый из них сигнализировал
о начале крупного и уникального переформатирования капиталистической
власти:
1) Кризис 1906–1920 гг. (-70%) ознаменовал завершение эпохи
американского «фронтира» – переход от грабительского капитализма к
крупномасштабным предприятиям, а также начало синхронизированного
финансирования.
2) Кризис 1929–1948 гг. (-56%) стал сигналом окончания эпохи
«нерегулируемого» капитализма, появления больших правительств и
воинственного государства всеобщего благоденствия.
3) Кризис 1969–1981 гг. (-55%) ознаменовал окончание кейнсианской
эпохи, возобновление всемирного движения капитала и начало
неолиберальной глобализации.
4) И нынешний кризис, который, как я отметил, начался не в 2008, а в
2000 г. и до сих пор продолжается (-50% с 2000 по 2009 годы), похоже,
означает переход к иной форме капиталистической власти или, возможно,
полный отказ от капиталистической власти.
Нынешний кризис отличается системным страхом. Капиталисты
сегодня не просто не уверены в завтрашнем дне или встревожены – они
напуганы. Они опасаются не за какой-то конкретный аспект капитализма, но
за само его существование. Многие из них боятся, что капиталистический
строй как таковой может не сохраниться – по крайней мере в его нынешнем
виде.
ПД: – По каким признакам мы можем судить о том, что капиталисты испытывают системный страх?
ШБ: – Главный признак, свидетельствующий об
охватившем капиталистов системном страхе, – это то, как они оценивают
свои акции. Ритуал капитализации недвусмыслен: он требует, чтобы
капиталисты дисконтировали не текущий уровень прибыли, а оценивали ее долгосрочную
траекторию. При обычных обстоятельствах изменение цен на акции не
связано непосредственно с изменениями текущей прибыли или связь между
ними несущественна. Но периоды системного страха – ненормальное явление.
В такие периоды капиталисты сомневаются в выживании своей системы, и
это сомнение заставляет их терять из виду свое будущее. Когда будущее
капитализма под вопросом, долгосрочная тенденция получения прибыли
утрачивает смысл, а когда долгосрочную прибыль оценить невозможно, у
капиталистов ничего не остается для дисконтирования.
В капитализированном мире неспособность капитализировать равносильна
смерти. Когда капиталистам не за что зацепиться, они перестают уповать
на священное завтра и хватаются за настоящее. Системный страх вводит их в
оцепенение, и они дисконтируют не долгосрочную тенденцию изменения
прибыли, а ее ежедневные колебания. И именно это мы наблюдаем на примере
нынешнего кризиса: с 2000 г. цены акций фактически повторяют траекторию
текущих прибылей вместо того, чтобы меняться независимо от текущей
прибыли.
Такое паническое поведение встречается в истории не впервые. Мы уже
это проходили в 1930-е годы. Как и сегодня, капиталисты тридцатых были
парализованы системным страхом; как и сегодня, они отказались от ритуала
капитализации. Более того, самое главное – причина коллапса в обоих
случаях была во многом одинаковой: капиталисты настолько усилились и в
те годы, и в начале XXI века, что потеряли уверенность в своей
способности удерживать власть или тем более умножать ее.
ПД: – Подобное утверждение противоречит здравому смыслу:
разве капиталисты не должны становиться увереннее с ростом их
могущества?
ШБ: – Только до определенного момента.
Капиталистическая власть распределительная, она измеряется исходя из
сравнительной капитализации. Так что капиталистическая группа, имеющая
чистые активы на сумму 300 млрд долл., в три раза могущественнее группы,
имеющей активы на сумму 100 млрд долларов. Превышая нормальный уровень
доходности, доминирующий капитал накапливается дифференцированно.
Поскольку капитал – это распределительная власть, дифференцированное
накопление означает увеличение распределительной власти. Однако у
распределительной власти есть четкие границы. Ни одна группа
капиталистов, какой бы изощренной и безжалостной она ни была, не может
претендовать на большее богатство, чем то, которое имеется в обществе.
Более того, прежде чем достичь верхнего предела, капиталистическая
власть на практике часто буксует и притормаживает.
Причина коренится в конфликтной динамике власти. Капиталисты не могут
не стремиться к тому, чтобы наращивать свою власть: поскольку капитал –
это власть, стремление к накоплению означает стремление к большей
власти по определению. Но стремление к власти само по себе порождает
препятствия. Власть опирается на применение насилия и ответный саботаж.
Чем больше капиталистическая власть приближается к своему пределу, тем
выше сопротивление и саботаж, с которыми она сталкивается. Чем выше
уровень сопротивления, тем труднее власть предержащим расширять свои
полномочия. Чем труднее расширять полномочия, тем выше потребность в
насилии и ответном саботаже, а чем больше приходится прибегать к
насилию, тем выше вероятность серьезной социально-политической реакции,
которая приводит к упадку или даже распаду власти.
Именно в тот момент, когда кривая власти приближается к своей
социетальной «асимптоте», тем вероятнее, что капиталистов охватит
системный страх – страх того, что твердыня их власти даст трещину.
Наступает тот критический момент, в который капиталисты опасаются за
само выживание своей системы. Они опасаются, что капитализация,
ориентированная на отдаленное будущее, вот-вот рухнет.
Впервые США столкнулись с таким коллапсом в 1929 г., а затем повторно
в 2000 году. Как было показано в нашей с Джонатаном Ницаном книге, в
обоих случаях период, предшествовавший обвалу, характеризовался
крайностями распределения: и в конце 1920-х гг., и в 2000-е гг. 10%
американского населения контролировало почти половину всех доходов.
Немаловажно отметить, что основополагающее неравенство сегодня,
возможно, даже больше, чем в 1920-е годы. В качестве иллюстрации можно
указать на то, что к 2010 г. доля капиталистов в национальном доходе
(проценты и прибыль) после налогообложения плюс чистая прибыль 0,1% всех
корпораций (представляющих доминирующий капитал) достигла рекордной
планки, превысив все значения, зафиксированные с 1929 г., когда
появилась полноценная статистика о структуре национальных доходов.
Для дальнейшего увеличения и поддержания этого вида
дифференцированного накопления и власти доминирующий капитал должен был
прибегать к тому, чтобы нагонять как можно больше страха на остальное
население, использовать в своих целях случаи саботажа и причинять людям
как можно больше страданий. Унижения принимают самые разнообразные
формы; одним из самых шокирующих является рост доли доходов 10% самых
богатых граждан США. С 1940-х гг. соотношение между взрослым населением в
исправительных учреждениях (тюрьмы, домашний арест, испытательный срок и
т.д.) и рабочей силой всегда находилось в четкой и тесной зависимости
от распределительной власти правящего класса. Чем больше власть богачей,
тем выше уровень насилия в обществе, о чем можно судить по количеству
людей в американских исправительных учреждениях. В настоящее время эта
цифра достигла 5% рабочей силы Америки. Это самый высокий процент в мире
и в истории Соединенных Штатов.
Хотя здесь трудно говорить о каких-то жестких соответствиях,
сомнительно, что подобное массовое наказание может и дальше
увеличиваться, не вызывая при этом ответной реакции и дестабилизации
общества. Вместе с тем логика дифференцированного распределения диктует
необходимость дальнейшего перераспределения богатства, которое будет
сопровождаться ростом случаев саботажа. Это столкновение между
требованиями капитала как власти и нестабильностью, которую он
порождает, объясняет, почему ведущие капиталисты охвачены системным
страхом. Заглядывая в будущее, они понимают, что единственный способ
дальнейшего увеличения своей распределительной власти – это
использование еще большего насилия. Вместе с тем достаточно высокий
уровень насилия и дальнейшее его увеличение может столкнуться с ростом
сопротивления и неприятия в обществе, поэтому капиталисты все больше
испытывают страх перед бурей и социальным взрывом, которые они сами на
себя навлекают. Чем ближе они подходят к роковой черте – упомянутой выше
асимптоте, тем более неопределенным видится им будущее капитализма.
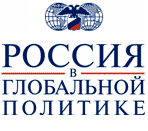









В комментариях на globalaffairs.ru запрещается: